Архив журнала

Хочу на Луну!
космос — это прежде всего напряженная работа. После возвращения на Землю Сергей Ревин передает свою увлеченность космонавтикой школьникам и говорит, что готов вновь полететь.
Андрей Самохин
ДОЛГОТЕРПЕНИЕ
— Сергей, вы ведь начинали инженером-электронщиком?
— Я учился в МИЭТе в Зеленограде, в 1986 году на 4 курсе был направлен на преддипломную практику в НПО измерительной техники в Королёве. Шел я целенаправленно в отряд космонавтов, и поэтому для практики и диплома необходимо было предприятие общемаша. А в НПО «Энергия» из МИЭТа не распределяли. Специальность моя называлась «инженер-физик по автоматике и электронике», а конкретная специализация — «проектирование интегральных микросхем».
Мне не с чем было особенно сравнить предприятие, куда я попал, но в любом случае было интересно. Тогда там была самая передовая техника, автоматизация проектирования — все это меня, молодого человека, увлекло. Охватить весь масштаб деятельности объединения мне было сложно — тогда все «секретилось», и мне был доступен только лично мой участок деятельности. Проектировал интегральные микросхемы.
Ушел в НПО «Энергия», где был свой отряд космонавтов, я в 1993 году. Характеристику мне писал тогдашний директор НПО ИТ Олег Александрович Сулимов. Он рекомендовал меня руководству РКК «Энергия» и Александру Павловичу Александрову, руководителю летно-испытательной службы. Сулимов помог и хорошей характеристикой, и советами, и с оплатой медкомиссии в Институте медико-биологических проблем за счет предприятия.
— Когда вы захотели стать космонавтом?
— О космонавтике я мечтал с юности. Увлекался и воздухоплаванием. Увлечение переросло в конце
1980-х в бизнес. Мы с друзьями создали фирму «Небосвод», производящую аэростаты — беспилотные для рекламы и пилотируемые. Работал одновременно и в НПО, и в своей фирме, времени хватало только на сон.
— Попав в отряд космонавтов, бизнес «отставили»?
— Да, в 1996-м. Все время уделялось тому, чтобы стать профессиональным космонавтом.
— И так 16 лет?
— Да.
НА ВОСТОРГИ НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ
— Что для вас оказалось самым ярким в полете, к которому вы так долго шли?
— Я бы сказал не «ярким», а интересным впечатлением стало то, как инженерная система по управлению кораблями и станцией работает. Сегодня МКС — это космический порт, куда причаливают космические корабли, доставляя грузы и экипажи, а затем возвращаются обратно на Землю.
Вообще, на «восторги» было не так много времени: во время старта, выведения и на орбитальном участке полета корабля я занимался контролем работы бортовых систем корабля, а на станции весь день расписан по часам. Научных экспериментов было около 30, в основном по биотехнологии и медицине, в частности по вопросам, связанным с перспективой полета к Марсу. Сами космонавты при этом становились объектами исследования медиков: исследовались изменение объема мышц, процессы, происходящие в костных тканях, из которых в условиях невесомости и без нагрузки вымывается кальций, реакция на длительное пребывание в космосе сердца и сосудов, слуха и зрения.
— С экипажем повезло?
— Международная команда у нас сложилась хорошая — все друг друга понимали с полуслова, помогали друг другу. Не зря перед полетом мы многократно бывали в командировках в США, много общались и вместе отдыхали.
«МЫ ЗАСИДЕЛИСЬ НА ЗЕМНОЙ ОРБИТЕ»
— Сегодня много говорится о кризисе российской космонавтики: ракеты падают, техника отказывает…
— Это не такой простой вопрос. Надо внимательно посмотреть статистику запусков в советское время — тогда тоже было немало отказов и нештатных ситуаций, просто далеко не все из них попадали в прессу.
— Да, но тогда мы шли вперед семимильными шагами. Чуть ли не каждый год испытывалась и отправлялась в космос новая техника, которая по определению подвержена риску. А сегодня запускаются модификации еще королёвских ракет, и при этом умудряемся спотыкаться на давно пройденном…
— Это уже совсем другой вопрос, лежащий в плоскости политических решений. Конечно, хочется двигаться дальше. У нас есть научный и технологический задел на этот рывок. Многие космонавты и конструкторы, которых я знаю, готовы к активному участию в новой космической программе и удивляются, почему наша страна медлит с ней, как будто бы на кого-то оглядывается…
На МКС у меня возникло твердое ощущение, что мы засиделись на земной орбите. Такую станцию собрать бы уже на орбите Луны! Ясно, что это должен быть международный проект, но роль России в нем может быть основополагающей или обслуживающей — все зависит от нашей воли и расторопности.
— Верите ли вы в освоение Луны? Может ли такой проект стать «духоподьемным» шагом и системным прорывом для нашей космонавтики и всего межотраслевого научно-технического блока?
— Духоподьемность — это здорово, но сегодня от бизнеса, то есть подсчета затрат и окупаемости, никуда не уйти. Луна, на мой взгляд, интересна со всех сторон: и с точки зрения романтики, и с точки зрения бизнеса. Россия, например, смогла бы сформировать совершенно новые рынки «лунных» услуг.
Руководители отрасли и государства давно ищут подходы к решению этой проблемы. Понятно, что это непросто. Для запуска лунного проекта нужны какие-то нелинейные ходы. Луну нужно вовлекать в земной оборот: строить там базу, осваивать наш естественный спутник…
— А полет на Марс?
— Марс далековато, и в этом проекте романтика явно сильно превышает трезвый расчет. Какая практическая отдача будет от огромных затрат и очень высокого риска такой экспедиции? Думаю, вряд ли кто-то ответит сегодня вразумительно. Считаю, что Марс пока нужно исследовать автоматами.
ОГОНЬ В ГЛАЗАХ ГОРИТ
— Чем вы заняты сейчас?
— В 2013 году, наконец, «добил» диссертацию, которую начал еще в 2005 году. Она называется «Формирование экологических понятий у школьников на основе метода аналогии (на примере изучения экосистемы космической станции)». Это такая педагогически-философская работа, которую я защитил в Московском гуманитарном университете. Кстати, во время своего полета смог подготовить ряд дополнительных репортажей для этой работы, связанных с методикой преподавания в 5–6 классах школы.
— Интерес к педагогике почувствовали именно в космосе?
— Работа на орбите дает новый взгляд на многие привычные вроде бы вещи. Например, экология Земли. Из космоса видно, что планета пульсирует и дышит, как живое существо. И это существо нужно беречь, заботиться о его здоровье! Именно космонавты могут убедительно донести это понимание до детей.
Метод аналогии же здесь простой: на МКС мы живем в экосистеме, которая в миниатюре копирует Землю. И выводы, которые делаем, изучая эту систему, уместно экстраполировать на всю Землю. Загрязнение водной и воздушной сред, нештатные ситуации на станции — это те же чрезвычайные происшествия на Земле. Есть только существенная разница: при возникновении крупной аварии на МКС мы имеем возможность покинуть станцию, а при аналогичном по масштабам бедствии на Земле нам некуда бежать.
Хочу, чтобы моя диссертация пригодилась педагогам в самых разных учебных заведениях. Ее можно будет использовать для составления методических пособий и материалов, благодаря которым понятие «экология» обретет для ребят совершенно иной, предельно понятный и насущный смысл. Разумеется, я готов при возможности сам приезжать к школьникам с лекциями по этой тематике. Собственно, во многих школах я с такими выступлениями уже побывал.
— Нет у вас ощущения, что из космонавтики уходит романтический запал, который был на ее заре? Все становится более прозаично, меркантильно…
— Романтика — категория психологическая. В космонавтике были, есть и будут вполне объективные составляющие, одна из которых, например, оборонная. Хотя совсем без романтики, конечно, в нашей профессии делать нечего.
Общение со школьниками дает двойственное ощущение. С одной стороны, они почти ничего не знают об истории и сегодняшнем дне космонавтики, научных и технических проблемах, которые перед ней стоят. Но огонь в глазах у них загорается, как и прежде! И это дает надежду, ведь знания — вещь наживная.
МЕЧТА
— Есть ли у вас планы по дальнейшим полетам?
— Конечно, есть. Главное, чтобы они совпали с планами начальства. Я обозначил свою позицию и жду очереди на включение в очередную орбитальную экспедицию. В любом случае между полетами должно пройти не менее 3 лет.
— О чем мечтаете?
— О полете на Луну.
— А это реально?
— Пока это мечта!

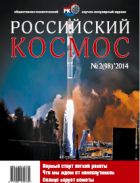 Журнал № 2(98)'2014
Журнал № 2(98)'2014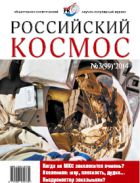 Журнал № 3(99)'2014
Журнал № 3(99)'2014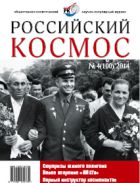 Журнал № 4(100)'2014
Журнал № 4(100)'2014 Журнал № 5(101)'2014
Журнал № 5(101)'2014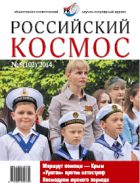 Журнал № 6(102)'2014
Журнал № 6(102)'2014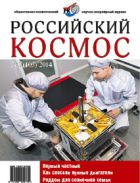 Журнал № 7(103)'2014
Журнал № 7(103)'2014 Журнал № 8(104)'2014
Журнал № 8(104)'2014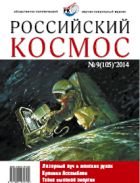 Журнал № 9(105)'2014
Журнал № 9(105)'2014 Журнал № 10(106)'2014
Журнал № 10(106)'2014 Журнал № 11(107)'2014
Журнал № 11(107)'2014 Журнал № 12(108)'2014
Журнал № 12(108)'2014