Архив журнала

Клио меняет прописку
Дмитрий Попов
ЧТО ИМЕЕМ? КАК ХРАНИМ?
Особенности ракетно-космической отрасли таковы, что представить широкой общественности свидетельства многочисленных триумфов отечественной космонавтики мы не можем — ведь, как правило, драгоценные раритеты хранятся на территории предприятий, а режим секретности еще никто не отменял. Как же быть? В самарском ОАО «Кузнецов» решили создать современный музейный комплекс за пределами завода. Уже подыскивается площадка, обсуждается проект нового музейного здания. Когда все, как говорится, срастется — любой желающий сможет увидеть уникальные образцы техники: лучшие творения русской инженерной мысли в области авиации и ракетных двигателей. А желающих, полагают на предприятии, будет немало.
Чем сегодня располагают хранители истории «Кузнецова»? Одна из площадок музея находится в поселке Управленческий, что в пригороде Самары. Неприметное здание из стекла и бетона на окраине поселка, скромная проходная, контрольный турникет, и вот перед нами кирпичные постройки, закрытые наглухо двери ангаров. Мы проходим вместе с директором музея Верой Данильченко в один из кабинетов административного корпуса. Нас встречают старинные экспонаты — винтовые двигатели первых российских самолетов, а также макеты и стенды, посвященные истории знаменитого предприятия. Рядом газотурбинные двигатели и несколько модификаций знаменитого ракетного двигателя марки НК. За стеклом парадный мундир генерал-лейтенанта — инженера, дважды Героя Социалистического Труда, академика РАН Николая Дмитриевича Кузнецова. Основателя предприятия и генерального конструктора двигателей летательных аппаратов.
— Исторически сложилось так, что корпуса большого завода строились в разное время и в разных частях Самары. Производство изначально было закрытым, поскольку выполняло исключительно военные заказы. Тогда, в конце 1940-х годов, о создании музея даже не задумывались — просто было не до этого, — рассказывает Вера Данильченко.
ОТ «ГНОМА» ДО «ЛЕТАЮЩИХ» ТАНКОВ
Современный «Кузнецов» ведет свою историю с московского завода «Гном», образованного в 1912 году для сборки поршневых авиационных моторов и ставшего фактически первым отечественным специализированным авиадвигателестроительным предприятием.
В 1924 году произошло объединение нескольких заводов из Москвы и Риги в завод № 4 имени Михаила Фрунзе. Затем еще раз произошло объединение в завод № 24 имени Фрунзе.
В это время будущий генеральный конструктор учился в подмосковной школе и, как все мальчишки того времени, увлекался авиацией. Николай Кузнецов предложил сверстникам самостоятельно собрать аэросани. Мальчишки буквально загорелись идеей, а спустя время уже мчались на санях на первых испытаниях своего детища. Тогда Коля и решил поступать на моторостроительное отделение авиационного техникума.
А затем и поступил на моторостроительный завод № 24.
В октябре 1941 года 24-й завод был эвакуирован в Куйбышев, где занимался выпуском двигателей АМ-38Ф для двухместного штурмовика Ил-2, а затем и штурмовика нового поколения Ил-10.
Тех самых легендарных «илов», которые фашисты окрестили «Черная смерть» или «Летающий танк». Советский штурмовик Ил-2 по своим тактико-техническим и боевым характеристикам заметно превосходил зарубежные аналоги.
Первый образец Ил-2 был создан еще в 1939 году и уже дорабатывался с учетом следующего десятилетия. Конструкторские и инженерные решения, реализованные в боевом самолете, опередили свое время. Даже «хваленые» немецкие новинки последнего года войны — истребители Ме-262 и Не-162 с турбореактивными двигателями — уступали русским образцам в маневренности и техническом обслуживании. А «иловский» двигатель АМ-38Ф и сегодня можно увидеть на площадке музея предприятия.
А в апреле 1946 года в поселке Управленческий был образован Государственный союзный опытный завод № 2 министерства авиационной промышленности «по разработке и производству опытных реактивных двигателей». Здесь были заложены основы для разработки газотурбинных и жидкостных реактивных двигателей. Именно в Куйбышеве создается крупный научно-исследовательский центр по разработке и серийному производству жидкостных ракетных двигателей и другой продукции.
На стендах, посвященных началу космической эры, мы видим несколько черно-белых снимков тех лет. Вот люди в белых халатах собирают турбореактивный двигатель ВК-1, на другом снимке — обработка картера компрессора двигателя НК-12МВ. А вот и фотография знаменитого испытательного стенда в поселке Прибрежный — первое огневое испытание ракетного двигателя РД-107. Сегодня многие новинки тех лет — в числе экспонатов музея.
Для человека несведущего посеребренный набор цилиндров и конусов, сложные хитросплетения трубок выглядят как фантастический гость из других миров. Что ж, наверное, это правильно, потому что инженерная мысль находится за гранью земной реальности. Но главное, что воплощенная в металле человеческая мысль работает и действительно отправляется в далекие, неизведанные миры.
ГАНС СЛУШАЛ, ОТКРЫВ РОТ
Ракетная тематика начинает активно развиваться в Самаре в середине 1950‑х годов, когда Николай Дмитриевич Кузнецов уже был назначен главным конструктором в ОКБ завода № 24. Задача — серийный выпуск жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) в рамках советской программы освоения космического пространства. Те самые двигатели для знаменитой королёвской «семерки» — ракеты Р-7, что вывела в космос Юрия Гагарина.
Забегая вперед, расскажем о предыстории вопроса. В лихие 1990-е в либеральной прессе некоторые псевдоученые стали переписывать, а нередко и очернять достижения советского общества. И получилось у них, что Кузнецов лишь доработал немецкие изделия, вывезенные из побежденной Германии в Советский Союз после войны. А дело было по-другому. На заводе действительно работали немецкие специалисты — около 700 из известных фирм «Юнкерс», BMW, «Аскания». Но работали они с прохладцей и особого рвения не проявляли. А когда перед ОКБ поставили задачу создать новый двигатель, многие из них оказались не в состоянии решать принципиально новые конструкторские задачи.
Немецкие специалисты получали хорошую зарплату — почти в 2 раза превышающую оплату труда советских инженеров. И вот идет первое заседание научно-технического совета, организованного по инициативе Николая Кузнецова.
Первым выступает немец. В его докладе нет ни анализа существующей зарубежной техники, ни тенденций в проектировании двигателей, ни анализа текущей работы. Кузнецов разобрал выступление и предупредил всех, что в случае незнания сути вопроса зарплата немецких специалистов будет снижена, а со следующей недели назначается переаттестация, поскольку квалификация инженеров вызывает сомнения. Немецкие технари слушали Кузнецова, буквально открыв рот. И уже позже, когда Николай Дмитриевич приступил к разработке ракетного двигателя, немцы пытались убедить его, что создать такой двигатель невозможно, дескать, нет достаточных технических наработок и предпосылок. Гений Кузнецова доказал обратное. И вскоре уже немецкие специалисты учились у советских конструкторов.
Все это к тому, что сложное техническое изделие — ракетный двигатель — не мог быть создан на пустом месте. У истоков изобретения всегда стоит человек, который идет к открытию «через тернии к звездам».
Знают ли об этом современные школьники, студенты и просто обыватели? Должны знать. Для этого и существует музей истории предприятия.
ЗВОНОК ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО
Музей и его экспонаты — своеобразный отчет о работе завода, а также память о людях и их идеях, реализованных в конкретных вещах: двигателях и конструкциях летательных аппаратов. И это тоже наш приоритет в космической тематике, о котором не следует забывать.
Начиная с 1959 года, на предприятии налажен выпуск ЖРД с принципиально новой замкнутой схемой для межконтинентальной баллистической ракеты ГР-1 (глобальная ракета) и ракеты-носителя Н-1, предназначенной для полета на Луну. Коллектив ОКБ под руководством Николая Кузнецова сделал все возможное и невозможное для реализации лунной программы. Завершить ее по известным причинам не удалось, программу закрыли. Но, что интересно, в процессе создания двигателей и ракет для лунной программы в стране была сформирована, по сути, новая станкостроительная отрасль. Появились новые технологии, кадры и целые научные сообщества, ориентированные на более высокие цели. Отсюда новые технологии, которыми мы пользуемся до сих пор.
И это тоже должно оставаться в памяти людей. Неслучайно именно по инициативе Николая Дмитриевича Кузнецова в 1991 году на предприятии приступили к созданию музея. И через 5 лет музей был открыт.
Сегодня музейные площадки посещают в основном школьники, студенты и сами заводчане. Приезжают иностранные делегации, любители истории авиации и космонавтики.
Особенно радуются экскурсиям школьники. Ведь для них это открытие, чувство гордости за страну и своих близких людей. Многие родители детей работают на предприятии, но не всегда дети знают, чем они занимаются.
А тут наглядное выражение усилий сотен людей, выраженное в лучших в мире двигателях.
Один мальчишка в книге отзывов написал: «Пусть на двигателях ракеты, которая полетит на Марс, будут стоять буквы НК».
Вера Данильченко — сама выпускница первого выпуска инженеров ракетных двигателей Харьковского авиационного института 1961 года. По распределению попала на завод Кузнецова. Вспоминает, как в заводской газете был опрос на тему «В чем счастье?»
Генеральный конструктор тоже участвовал в опросе. И ответил так: «Когда я с интересом и удовлетворением иду на работу и с этими чувствами возвращаюсь домой, для меня это счастье».
И если благодаря музею счастливых людей станет немного больше — уже хорошо. Директор музея вспоминает случай, когда в музей пришли ребята, чьи родители работают в ОАО «Кузнецов».
— У нас в музее стоит действующий телефон генерального конструктора. По нему можно напрямую позвонить в любой цех или отдел завода. И вот однажды мальчишка набрал внутренний номер и попросил к телефону свою маму. Та не ожидала услышать сына по служебному телефону.
— Слава! Ты где?! Как сюда попал?!
— Я в кабинете генерального конструктора, в музее! — с гордостью открыл секрет Слава.
Сотрудники туристических экскурсионных бюро уже много раз предлагали предприятию включить музей в программу, но на режимном предприятии осуществить это очень сложно. Стало быть, нужен полноценный музей, чьи двери были бы открыты для широкой аудитории.
— Я знаю, что посетители музея, особенно молодежь, хотят иметь возможность все потрогать руками, — говорит Вера Данильченко. — Увидеть сам процесс работы двигателя. У нас был такой выставочный вариант двигателя НК-32, где можно было нажать на кнопку и увидеть работу каждой его части. Вот таких экспонатов сегодня не хватает, их должно быть как можно больше.
На предприятии говорят, что здесь вполне по силам создать демонстрационную кабину стратегического самолета, и чтобы там включались приборы. Можно сделать и отсек космического корабля, имитацию шума включенных двигателей, показать отстыковку ступеней. Почему бы не использовать для демонстрации исторических материалов современные информационные технологии? Самое главное — все это реально и все это очень важно для воспитания будущих королёвых и гагариных.
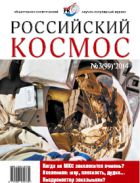
 Журнал № 1(97)'2014
Журнал № 1(97)'2014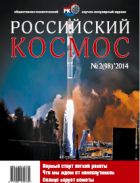 Журнал № 2(98)'2014
Журнал № 2(98)'2014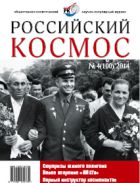 Журнал № 4(100)'2014
Журнал № 4(100)'2014 Журнал № 5(101)'2014
Журнал № 5(101)'2014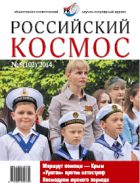 Журнал № 6(102)'2014
Журнал № 6(102)'2014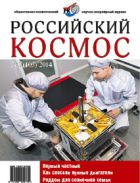 Журнал № 7(103)'2014
Журнал № 7(103)'2014 Журнал № 8(104)'2014
Журнал № 8(104)'2014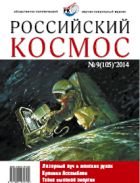 Журнал № 9(105)'2014
Журнал № 9(105)'2014 Журнал № 10(106)'2014
Журнал № 10(106)'2014 Журнал № 11(107)'2014
Журнал № 11(107)'2014 Журнал № 12(108)'2014
Журнал № 12(108)'2014