Архив журнала

Где рождается элита?
Екатерина Бекетова
В первый отряд космонавтов отбирали тех, кто мог переносить большие перегрузки, быстро реагировать на меняющуюся ситуацию и действовать самостоятельно. С этим лучше справлялись летчики-истребители. «Гражданские специалисты» стали летать в космос позже.
23 мая 1966 года свой «отряд космонавтов» появился на королёвской фирме (тогда ЦКБЭМ, теперь РКК «Энергия»). Главный конструктор С. П. Королёв считал, что космическую технику должны испытывать те, кто ее создает. Они могут отметить недостатки, внести предложения по ее совершенствованию и т.д. Еще при его жизни десятки молодых инженеров выразили горячее желание стать космонавтами и даже прошли медицинский отбор. Многие из них слетали.
С тех пор космос стал доступен не только для людей в погонах. Кому придется осваивать космос в будущем, насколько эффективен творческий потенциал нынешних космонавтов? Об этом наш корреспондент побеседовал с Александром Калери — Героем России, летчиком-космонавтом РФ, начальником Летно-космического центра РКК «Энергия». Более 12 лет (с марта 1994 по октябрь 2006 года) он был заместителем начальника летно-испытательного отдела РКК «Энергия».
— Александр Юрьевич, когда появилась идея об участии инженеров в космических полетах?
— В начале 1960-х в 9-м отделе ОКБ‑1 у М. К. Тихонравова разрабатывался проект тяжелого межпланетного корабля (ТМК), состоящего из нескольких модулей. И возник вопрос: а кто же будет его собирать и готовить на орбите для полета к Марсу? Летчики первого набора, не имевшие высшего технического образования (кроме двоих — Комарова и Беляева), сделать это не могли, на их подготовку потребовалось бы несколько лет. Кстати, все они после полета в космос по совету Главного конструктора поступили в академию им. Н. Е. Жуковского. Гораздо проще и быстрее сделать космонавта из хорошего инженера. После кончины С. П. Королёва его преемник В. П. Мишин поддержал эту идею. И 23 мая 1966 года на предприятии был создан свой отряд космонавтов, который вошел в состав летно-испытательного отдела. Возглавил его легендарный летчик-испытатель С. Н. Анохин.
— Говорят, в Центре подготовки космонавтов гражданских коллег встретили неприветливо. Им говорили: «И что вы сюда пришли? Ваше дело корабли строить, а наше — летать».
— По словам наших ветеранов, оценили перспективность этого шага немногие, в первую очередь Юрий Гагарин и Владимир Комаров. Они помогали нашим ребятам, опекали их. Гражданские космонавты внесли огромный вклад в развитие техники. Ведь это были грамотные специалисты, горевшие желанием стать космонавтами. Но, кроме желания, человек должен обладать высокими моральными качествами, проявить себя по работе, быть инициативным. К отбору кандидатов относились очень серьезно. Тех, кто прошел медицинские комиссии и собеседование, еще доучивали. И в коллективе за ними наблюдали.
— А когда появились понятия «космонавт-испытатель» и «космонавт-исследователь»? И чем они отличаются?
— 27 марта 1967 года вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР, которое поясняло, что это сделано «в целях обеспечения всесторонних испытаний и отработки космических кораблей в кратчайшие сроки и качественного проведения научных исследований в космических полетах и экспедициях».
К космонавтам-испытателям предъявляются более высокие требования при подготовке, к уровню их знаний и личностным качествам. В авиации процесс отбора и подготовки испытателей был четко отлажен и подтвержден десятилетиями успешной работы. Там летчики-испытатели — элита. Но испытатели тоже бывают разные: одни работают в КБ, другие в ЛИИ или каком-то авиационном НИИ и проводят испытания уже созданного аппарата, есть и заводские летчики-испытатели. И у каждого своя задача. В КБ он участвует в создании принципиально нового опытного самолета, поднимает его в воздух, потому что лучше всех знает особенности машины, ход испытаний и т.д. И никто не согласится заменить его другим, даже классным летчиком. Все дело в ответственности. И если программа испытаний прошла успешно и машина залетала, начинают исследовать ее летные характеристики, испытывать в разных режимах. И это делают уже летчики-испытатели ЛИИ (МАП). Там же на серийных машинах и летающих лабораториях отрабатывают системы, методологию, приборы, принципы и технологии для будущего развития и новых изделий. Потом наступает этап государственных испытаний боевых возможностей машины (если она для военной авиации), затем опытная эксплуатация в строевой части, и только после этого новая техника поступает на вооружение и запускается в серию.
— Сейчас в отряде космонавтов Роскосмоса только испытатели?
— Да. (С грустью.) Мне кажется, что это неправильно, тем более что пополнение пришло из разных областей. Испытатель — это отборный контингент! Разве можно учлета назвать летчиком-испытателем? Сначала он должен послужить в частях, потом лучших направят в школу летчиков-испытателей. А дальше он со своей специализацией пойдет или в КБ, или в НИИ, или на завод. Такая система уже построена! Уверен, что подобную систему нужно выстраивать и в пилотируемой космонавтике.
Туристов теперь называют участниками космических полетов. А космонавтов-исследователей сейчас нет совсем. Но ведь кто-то должен проводить исследования, и не только научные, фундаментальные, но и прикладные, в том числе технические. Желательно, чтобы каждый занимался своим делом, к чему он лучше подготовлен и склонен. Исследователь — это тоже совокупность образовательного уровня, состояния души, склада характера, строя мыслей…
Насколько я знаю, настоящих исследователей в инженерных, технических, вузах не готовят. Оттуда выходят инженеры-механики, инженеры-конструкторы, технологи, эксплуатационники, испытатели. А на Физтехе, например, до сих пор готовят исследователей. Там есть специальные курсы по технике физического эксперимента, множество лабораторных работ исследовательского характера, да и сама среда там исследовательская. Физики-исследователи — это отдельная область знаний со своей спецификой.
Исследователь должен поставить задачу, продумать эксперимент, провести его, повторить (потому что нынешняя классическая наука работает только с повторяющимся фактом), собрать сопутствующую информацию, обеспечить метрологию и регистрацию. И этому тоже надо учить. Космонавты, как правило, делают это по наитию. Это понимают только те, кто прошел в вузе исследовательскую школу, остальные об этом даже не догадываются.
— К сожалению, сейчас космонавты на борту выполняют функции лаборантов. Какие же они исследователи, если не участвуют в творческом процессе? За них заранее все приготовили, продумали, отработали. А им остается только вовремя включить и выключить аппаратуру.
— Недавно на Физтехе был вечер памяти Александра Сереброва. Собрались его друзья, те, с кем он учился и работал на кафедре, студенты. Они рассказали, что Саша привлек студентов к исследованию электрофореза. Серебров и Савицкая проводили такой эксперимент на установке «Таврия» для получения препарата интерферона. Сам Саша был его инициатором, работал над аппаратурой. Он загрузил студентов и аспирантов расчетами и отработкой в земных условиях. И вроде бы все получилось. Но когда этот эксперимент провели в космосе, результат оказался поразительным и неожиданным. Процесс разделения прошел и границы были хорошо видны, но фракции располагались таким образом, что собрать препарат было невозможно. Кто-то доложил бы специалистам, свернул работу и успокоился. А Саша начал думать: что делать? Может быть, попробовать сделать по-другому? Почему так получилось и что помешало? Вот Серебров был настоящим исследователем!
— Одним из самых интересных, важных и перспективных экспериментов является «Плазменный кристалл». Наверняка вы как физик лучше других понимали происходящие процессы и предлагали какие-то трактовки, когда работали на МКС?
— Большая часть работы в этом эксперименте перенесена на Землю. А в космосе идеи или находят подтверждение, или приходится искать новые пути. Космонавт-лаборант не способен это оценить — ему не хватает образования и понимания. И мне не хватало, потому что я не специалист по пылевой плазме и вообще плазме. Кроме того, нет возможности видеть, что происходит в установке. Поэтому я тоже выполнял обязанности лаборанта, но старался делать это предельно аккуратно и старательно. Ведь от этого зависит информация, которую получат ученые.
Но представьте себе, что космонавт-лаборант не обратил внимания на какие-то, казалось бы, не имеющие никакого отношения к эксперименту сопутствующие факторы (повышение солнечной активности, стыковку с космическим кораблем и т.д.). Но они могли оказаться очень важными и повлиять на эксперимент, и поэтому он не получился. Так что организация научных исследований — это серьезная проблема. И вообще, исследователей должно быть больше, чем испытателей. У нас их нет вообще. А ведь люди летят в космос в первую очередь за знаниями.
— Можно ли космические исследования сделать более эффективными?
— Да. Если коротко, то нужны упрощенный доступ в космос, большие экипажи, специализация, организация работы по принципу научно-исследовательской лаборатории. То есть одни члены экипажа поддерживают работоспособность станции и ее систем (инженерная служба). Другие обеспечивают настройку, ремонт и обслуживание уникальной научной лаборатории. А приглашенные профессиональные исследователи на этой аппаратуре проводят эксперименты и продвигают науку вперед. Все это есть в «Письмах о науке» (1984 год), которые писал академик П. Л. Капица.
— А в рамках нынешнего отряда можно что-то сделать?
— Честно говоря, не знаю. И тут мы подходим к самому интересному. В ЦПК в прошлом неплохо готовили космонавтов-испытателей весьма высокой квалификации. Сейчас уровень стал пониже, потому что нет задач, потребностей, тесной связи с разработчиками космической техники. Такие космонавты тоже нужны — для простых, обычных, дежурных полетов. Среди них нужно искать наиболее толковых и подходящих для испытательной работы. Но, к сожалению, мы начинаем забывать, как готовить космонавтов очень высокого уровня. А они нам сейчас тоже очень нужны! Очень! Я убежден, что подготовить их вне стен предприятия, разрабатывающего космическую технику, практически не-воз-мож-но.
— Но они же приезжают на фирму, знакомятся с техникой, встречаются со специалистами…
— Представьте себе, что человек всю неделю пашет на тренировках, а раз в неделю на часик забегает в редакцию и пишет статью. Чтобы создать что-то серьезное, надо быть в теме, в процессе. Взгляд со стороны частенько бывает неквалифицированным. А эксперт должен работать в этой области и трудиться над задачей. Вот тогда будет результат. Однажды после пятого полета я оказался в лаборатории на НПП «Звезда». Меня и моих коллег-космонавтов попросили оценить новый пульт индикации для скафандра «Орлан» и фактически выбрать одно из двух технических решений. Но я не мог высказать свое мнение, потому что не участвовал в этой работе, не знал предыстории, не понимал, как возникли эти вопросы. А ведь у меня было пять выходов, пять полетов, годы подготовки. Казалось, где же еще экспертов искать? А в эту задачу нужно влезть с головой, повариться в ней. Все дело в подходе. Если ты учишься, у тебя одна мотивация, а если участвуешь в проектировании или испытаниях, решаешь производственные задачи — другая, ты хочешь что-то узнать и по-другому воспринимаешь информацию. Разница очевидна.
— Так что же делать дальше?
— Сейчас РКК «Энергия» разрабатывает корабль нового поколения, который позволит упростить и расширить доступ в космическое пространство. Он рассчитан на четырех человек — двух пилотов и двух пассажиров, которые могут иметь квалификацию исследователя или участника космических полетов.
Когда человек стремится исследовать что-то новое — Северный и Южный полюс, океан, неизвестные земли, — сначала идут самые одаренные, самые смелые одиночки или очень небольшие группы универсалов, которые должны уметь делать все. За первопроходцами устремляются другие — узкие специалисты в разных областях. И хотя среда не изменилась, условия стали лучше, и сфера их деятельности постепенно расширяется. В космосе то же самое.
Все наши космические корабли — «Востоки», «Восходы», «Союзы» — представляли собой один объект. Комплекс Л3 состоял из двух частей — лунного орбитального корабля (ЛОК) и лунного корабля (ЛК). «Аполло» — из командного и лунного модулей, и в экипаже было три человека — командир, пилот командного модуля и пилот лунной кабины. Это уже специализация, а значит, чуть более широкий доступ и больше возможностей. Но на поверхности Луны как ученый поработал лишь один человек — геолог Х. Шмитт. В команде шаттла семь человек: четверо на летной палубе участвуют в управлении, трое на средней палубе — это специалисты по полезной нагрузке, исследователи, которых, бывало, не признавали как профессиональных астронавтов NASA, или пассажиры (по-нашему, участники космических полетов).
Сегодня никто из пассажиров самолета серьезно не готовится к полету — это обычные люди. А экипаж должен быть подготовлен, слетан, это профессионалы, которым пассажиры доверяют свои жизни. Так будет и в космонавтике. Космонавты-пилоты доставят пассажиров на станцию или другую планету, а космонавты-исследователи будут решать свои задачи и работать с полной отдачей. То есть каждый занимается своим делом.
Но сначала новый корабль нужно построить, испытать, научить его летать. И здесь без космонавтов-испытателей, непосредственно работающих на предприятии и участвующих в этих этапах, не обойтись.
— В новый набор пришли замечательные ребята! Они старательно учатся, проходят все испытания и тренировки.
— И прекрасно! Им присвоят квалификацию космонавта, а потом их нужно «обкатать» в простых полетах и присмотреться к каждому. Пусть они наберутся опыта, проявят себя. Кто-то останется на этой ступени, но тем, кто хочет идти дальше, тоже дорога открыта. Только прояви себя, работай, расти, повышай свои знания, делай следующий шаг по этой лестнице. Мы ставим в жуткое положение и ребят, и себя, потому что требуем от некоторых больше, чем они могут сделать, к чему они еще не готовы.
— А кто будет определять, кто сможет стать испытателем или исследователем?
— Эксперты и свои же коллеги. Ведь авиация — тоже довольно тесный мир. А там «пасут» всех выпускников училищ еще с курсантских времен инструкторы, преподаватели, командиры частей… Они знают, как этот летчик учился, как летал, как себя зарекомендовал, на что способен... И в ЦКБЭМ была такая же система отбора. Элита, творцы рождаются только в творческой атмосфере. Ее надо создавать. Нельзя хоронить хорошее, что уже наработано. Но нужно думать о будущем и идти вперед.

 Журнал № 1(97)'2014
Журнал № 1(97)'2014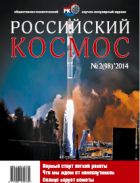 Журнал № 2(98)'2014
Журнал № 2(98)'2014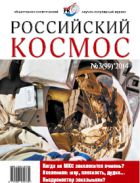 Журнал № 3(99)'2014
Журнал № 3(99)'2014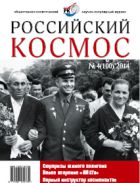 Журнал № 4(100)'2014
Журнал № 4(100)'2014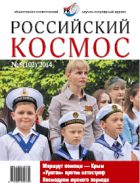 Журнал № 6(102)'2014
Журнал № 6(102)'2014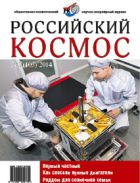 Журнал № 7(103)'2014
Журнал № 7(103)'2014 Журнал № 8(104)'2014
Журнал № 8(104)'2014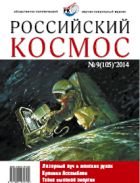 Журнал № 9(105)'2014
Журнал № 9(105)'2014 Журнал № 10(106)'2014
Журнал № 10(106)'2014 Журнал № 11(107)'2014
Журнал № 11(107)'2014 Журнал № 12(108)'2014
Журнал № 12(108)'2014