Архив журнала

Как спасали «Рабочего и колхозницу»
Владимир Губарев
Как всегда, если речь заходит о национальных интересах, Евгений Каблов мужественно вступает в бой с теми, кто привык преклоняться перед Западом. Его позиция четкая и справедливая: мы никому не уступаем ни в чем, а если потребуется, то и сами способны выйти на передовые рубежи. Он не голословен, потому что за ним ВИАМ — знаменитый на весь мир научный центр, и он, академик Каблов, знает, о чем говорит, так как вот уже много лет возглавляет его.
«Недавние события — масштабная информационная война против России, введение экономических санкций, давление на наших соотечественников за рубежом, попирание русского языка, например на Украине и в странах Балтии, — наглядно демонстрируют, что сегодня России необходимо жестко отстаивать свои позиции, оперативно реагировать на возникающие угрозы, а также развивать собственный потенциал в различных отраслях. Нашему обществу уже давно пора задуматься: стоит ли участвовать России в каком-либо, пусть даже престижном, объединении национального суверенитета? Мы состоим во многих международных структурах. Но вот приносит ли это нам реальную пользу?» — задается вопросом академик Евгений Каблов.
Евгений Николаевич Каблов в свои 60 с небольшим лет стал в Российской академии наук символом ее, Академии, успехов. Это, конечно, льстит, но прежде обязывает — лидерам всегда приходится пробиваться сквозь тернии, чтобы если уж не достичь звезд, то хотя бы их увидеть. Впрочем, Каблов их не только «взял», но и сумел высоко поднять, чтобы видели издалека — со всех концов света. И это отнюдь не преувеличение, а реальность.
— Когда вы пришли работать в ВИАМ?
— Сразу после института. В 1974 году.
— А что заканчивали?
— Московский авиационно-технологический институт.
— Думали ли, что станете руководителем ВИАМа? Ну, как каждый солдат мечтает стать генералом?
— Нет, конечно. Я знал, что руководил институтом всегда большой человек. Всесоюзный институт авиационных материалов слишком масштабный, а потому и возглавлять его нелегко — требуются и специальные знания, и нестандартный подход к делу. Так называемые современные «менеджеры», которых теперь много и которые готовы возглавлять любой институт или предприятие, лишь бы были «денежные потоки», не смогут руководить ВИАМом, так как направления работ охватывают широкий диапазон материалов — от герметиков до конструкционной керамики.
— А почему только авиационные материалы?
— Началось именно с них. В 1922 году Туполев, Ветчинкин, Архангельский пришли к выводу, что нужно создавать институт авиационных материалов. Однако потребовалась встреча двух сотрудников ЦАГИ, чтобы это осуществилось.
— Почти как для появления МХАТа, когда Станиславский и Немирович пришли в ресторан поужинать…
— В 1932 году вышел приказ Оржоникидзе о создании института. Однако перед этим два выдающихся ученых — профессор Сидорин, руководитель кафедры материаловедения в МВТУ, и профессор Акимов, основатель теории коррозии, книга которого изучается во всем мире, — решили донести до Сталина идею о том, что такой институт нужен для системного развития авиации в стране. Пробиться к начальству всегда сложно, будь это у нас или в Америке. Но, к счастью, Акимов учился в МВТУ вместе с будущим помощником Сталина Баженовым. Тот при удобном случае и передал записку ученых. Сталин заинтересовался их предложением. Ведь время было особенное — авиационная промышленность развивалась стремительно, самолеты и летчики у всех были на слуху.
— Мой отец — он был сыном сапожника — именно в это время пришел в летную школу. Так сказать, из деревни и сразу в заоблачную высь…
— Такова судьба многих наших отцов и дедов: увлечение авиацией было повальным. Однако и катастроф случалось немало, что и беспокоило руководство СССР. Самолеты падали. И, естественно, Сталин искал виновных. Как человек конкретный, он не мог допустить полной безответственности. Кто виноват? Все комиссии, которые проводили расследование катастроф, подводили к выводу: конструктора не виноваты, производственники не виноваты, получалось, что во всем виноваты материалы, из которых делают самолеты. А тут как раз и записка Сидорина и Акимова. Вот и было принято решение организовать институт, который нес бы ответственность за создание авиационных материалов, за технологию их производства, за рекомендации по их применению в конструкциях. В общем, было с кого спрашивать и кто именно будет отвечать за материалы. И с 1932 года ВИАМ практически отвечал за все материалы, которые используются в авиационной технике, за их разработку, за их паспортизацию, специализацию материалов в конструкции самолета и двигателя, за систему защиты, за продление ресурсов. Для того чтобы рекомендации ученых были обоснованы, необходимы тщательные и системные исследования.
— Можно привести конкретный пример?
— История реставрации известной скульптуры Мухиной «Рабочий и колхозница». Только знание и опыт, накопленные сотрудниками института, позволили коллективу реставраторов во главе с известным скульптором В. М. Церковниковым решить очень сложную в научном, инженерном и архитектурном плане задачу. Сейчас в страну завозится из-за рубежа очень много металлических материалов по документам с высокими характеристиками коррозионной стойкости, но результаты испытаний некоторых из них на площадке ГЦКИ ВИАМ в Геленджике показали, что характеристики, представленные в сертификатах, на тот или иной материал существенно отличаются от реальных результатов. В этом вопросе необходимо срочно наводить порядок, это касается надежности функционирования сложных технических систем, то есть безопасности людей.
— Пожалуй, история воссоздания «Рабочего и колхозницы» — это самый наглядный пример борьбы с коррозией в наше время, не так ли?
— Согласен.
— А как вы оказались в центре этой истории?
— Опять-таки это связано с теми внутренними ощущениями, которые живут в душе. На мой взгляд, этот монумент — символ мощи государства, Советского Союза — моей Родины. В СССР я вырос, получил отличное образование.
— Евгений Николаевич, сначала несколько слов о том, откуда вы.
— Родился на спиртзаводе… Да-да, в моем паспорте записано: место рождения — Теньгушевский спиртзавод.
— ?!!
— Когда меня назначали генеральным директором, то один из членов коллегии Миноборонпрома вдруг говорит: его нельзя назначать директором, вы только посмотрите, где он родился, — пропьет ведь все! На этой шутке все и завершилось: меня утвердили единогласно…
Но вернемся к «Рабочему и колхознице». Скульптура Мухиной венчала павильон СССР на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Скульптура была изготовлена по технологии строительства самолета, то есть имелся силовой каркас и на каркас навешивались элементы оболочки скульптуры из нержавейки. Всего таких элементов было около 5 тыс. штук, листы нержавейки выстукивались по шаблонам, а затем приваривались точечной сваркой. Так же как планер самолета имеет несколько крупных элементов конструкции (крылья, хвост, отсеки фюзеляжа), так и скульптура была расчленена на 40 крупных блоков. Эти блоки в специально оборудованных вагонах были доставлены в Париж. Советский павильон и особенно скульптура Мухиной вызвали настоящий фурор. Французы дважды обращались с просьбой к советскому правительству оставить эту скульптуру в Париже, но получили отказ. Скульптуру после завершения Всемирной выставки без соблюдения необходимых технологий разобрали и как металлолом отправили в СССР. Когда готовились к открытию ВСХВ, зимой 1939 года, Сталин вспомнил об этой скульптуре и дал команду установить ее у входа на выставку. Но поскольку элементы скульптуры были сильно повреждены, заменить их не было времени и сил, а сроки открытия ВСХВ приближались. Монтаж скульптуры был осуществлен с большими отступлениями от первоначального проекта в плане точной стыковки отдельных блоков. Однако время свое берет, и «Рабочий и колхозница» требовали реставрации или реконструкции, иначе скульптура могла упасть, так как силовой каркас из простой стали практически был разрушен коррозией.
Под руководством ведущих ученых ВИАМа молодые специалисты провели все необходимые исследования 5 тыс. образцов, всех 49 блоков. В 49 отчетах подробно описаны повреждения, какую площадь они занимают, какое произошло изменение свойств металла — все необходимые измерения были проведены. После такой тщательной работы было сделано заключение. В частности, ясно было, что надо менять каркас.
— По-моему, памятник «вышел» вперед?
— Да, он стал ближе к проспекту Мира и восстановлен полностью, как это было в Париже. Кстати, памятник монтировали с лазерной системой наведения. Его сразу «посадили» на мощные штыри, тут же зафиксировали. Сделано все было безукоризненно точно. Когда все завершилось, мы подписали ряд документов. Я поставил свою подпись под документом, где значилось, что «Рабочий и колхозница» будут стоять 100 лет.
— Что вам помогло выжить в кризисные годы?
— В 1997 году наши разработки для авиации и космоса были невостребованными, промышленность фактически не работала, заказов у института не было. Необходимо было искать работу по профилю ВИАМа. А здесь я узнал, что стоит задача заменить в Москве более 300 тыс. изоляторов из текстолита для троллейбусных контактных линий. Сотрудники института по авиационным технологиям из своих материалов организовали производство этих изоляторов. Но конструкция и материалы были авиационные, и поэтому они стали существенно прочнее и легче. Мы получили заказ и изготовили более 50 тыс. изоляторов, заработали первые 3 млн рублей. Эта работа улучшила финансовое состояние института. Так что первые деньги для возрождения ВИАМа мы заработали не на самолетах и не на ракетах. Мы с Америкой давно сотрудничали. На установке, которая стоила гроши, мы изготовили лопатки с более совершенной монокристаллической структурой.
— Там шум подняли, что их спасают русские?!
— Лопатки для турбин, а не для подводных лодок. А шум был вокруг лодок. Но мы к этому отношения не имели. На небольшой установке, в которую мы вложили 50 тыс. рублей, мы заработали 5 млн долларов. Но как именно заработали? Когда наши выводили войска из Германии (точнее, в панике бежали), там остались самолеты МиГ-29. Американцы сняли с них двигатели, проанализировали, посмотрели, каков уровень технологий. Их поразило то, что лопатки турбины имели монокристаллическую структуру с минимальными междендритными расстояниями. У них — 500 микрон, а у нас — 150–200. Они были поражены этим. И перед их специалистами была задача выяснить, кто в России сумел это сделать. В конечном итоге они вышли на нас. Один из руководителей американского исследовательского центра General Electric предложил поработать вместе. Сначала договор был на 250 тыс. долларов, но потом все пошло-поехало, и, в конце концов, мы заработали 5 миллионов. Смогли сразу же создать новое поколение оборудования, а наш коллега в Америке сделал промышленную установку по производству крупногабаритных монокристаллических лопаток для энергетики. Так что сотрудничество, действительно, оказалось выгодным обеим сторонам.
— А как Airbus на вас вышел?
— Приехали специалисты, посмотрели наши сплавы, увидели, что есть очень хорошие материалы, которые превосходят зарубежные, например высокопрочный алюминиевый сплав 1933. «Русский алюминий» купил производство этих сплавов, чтобы поставлять Airbus полуфабрикаты. Даже было подписано соглашение на 200 самолетов А-319. Но потом он решил продать этот свой бизнес… В общем, шли какие-то игры…
— Но если речь идет о самолетах, ракетах, атомных установках, можно ведь и заиграться?
— Кроме слов, должны быть действия. Я немало говорил и писал по этому поводу. Считаю, что наступило время технократов. Решения политические и государственные должны приниматься, учитывая мнения специалистов, людей, которые что-то уже сделали для страны.
— Вы активно работаете на авиацию и ракетную технику сейчас?
— Работаем, конечно. Но не так, как в «золотые годы», — в конце 1960-х — начале 1970-х. Достаточно вспомнить, что третьей позицией в программе визита в СССР Ричарда Никсона значилось посещение ВИАМа. Но ему было отказано. Из-за секретности. И его повезли на Даниловский рынок. Потом ВИАМ хотел посетить другой президент США Клинтон. Но из-за сокращения времени визита приезд к нам отменили. Я привел оба факта не случайно: на мой взгляд, они подчеркивают значение ВИАМа не только для развития отечественной авиации, но и мировой. Сейчас мы активно работаем с вертолетчиками, с «Пермскими моторами», с другими организациями. В чем сила авиации была в прошлом? В том, что она стимулировала развитие практически всех отраслей промышленности. Сейчас вертолетов делают по 150–200. Это нормально. А пассажирских самолетов делают четыре — это уже ненормально! В таком случае авиация не будет конкурентоспособной. Некоторые конструкторы и начальники считают, что надо завоевывать международный рынок. Это неверно. Надо сначала наполнить собственный рынок, обеспечить страну, а уже потом выходить за рубеж. Именно так делают китайцы и индусы. Так поступали в прошлом европейцы и американцы. Ну а мы, как всегда, «идем своим путем». Куда же он ведет? Ответить никто не может. Я знаю точно: если мы потеряем авиационную промышленность, то потеряем все.
Надо мыслить образно, масштабно. И это всегда отличало нас, славян, от остальных. Неслучайно же говорят, что если надо пробить стену, то дайте такую возможность русским, сербам, белорусам. А если вам нужно потом собрать осколки этой стены, то поручите это китайцам, японцам и индусам… Надо готовить людей, способных генерировать идеи. Именно такие специалисты нужны сегодня России.
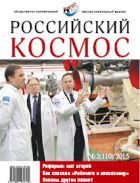
 Журнал № 1(109)'2015
Журнал № 1(109)'2015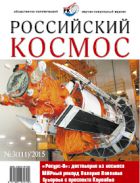 Журнал № 3(111)'2015
Журнал № 3(111)'2015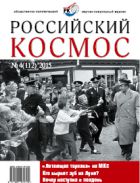 Журнал № 4(112)'2015
Журнал № 4(112)'2015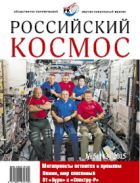 Журнал № 5(113)'2015
Журнал № 5(113)'2015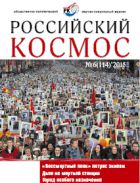 Журнал № 6(114)'2015
Журнал № 6(114)'2015 Журнал № 7(115)'2015
Журнал № 7(115)'2015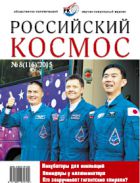 Журнал № 8(116)'2015
Журнал № 8(116)'2015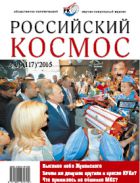 Журнал № 9(117)'2015
Журнал № 9(117)'2015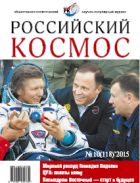 Журнал № 10(118)'2015
Журнал № 10(118)'2015 Журнал № 11(119)'2015
Журнал № 11(119)'2015 Журнал № 12(120)'2015
Журнал № 12(120)'2015