ПерспективаМегапроекты остаются в прошлом4
На орбитеПомни, мир спасенный12
ЮбилейИКИ РАН — полвека ...»16СотрудничествоВместе к Луне и Марсу22
ТехнологииСервис на орбите26
ПамятьУлица академика Легостаева ...»42ПредприятиеОт «Бури» к «Спектру-Р»46
ЗемлякиПозывной — «Тарханы»50
СимволыИстория одной эмблемы52
КинофестивальЧерез тернии к звездам57
Архив журнала

ИКИ РАН — полвека
Незадолго до официального «дня рождения», накануне Дня космонавтики, в ИКИ РАН прошла Вторая международная научно-практическая конференция «Научные исследования и эксперименты на Международной космической станции», в которой приняли участие более 600 ученых. Они обсудили не только результаты научных исследований, но и перспективы использования станции в интересах науки, образования и международного сотрудничества.
Екатерина Тимофеева
Екатерина Тимофеева
Конференция продлилась 3 дня и завершилась 11 апреля Днем открытых дверей для школьников старших классов, студентов и всех желающих.
Более 50 экспонатов, макетов и образцов научных приборов и оборудования для космических экспериментов на орбитальной станции были представлены на выставке «Наука на МКС». Все они разработаны ведущими предприятиями и организациями ракетно-космической промышленности, институтами РАН и вузами: ИКИ РАН, ФГУП ЦНИИмаш, ОАО «РКК «Энергия» имени С. П. Королёва», ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», ГНЦ РФ ИМБП РАН, ОАО «НИИВТ имени С. А. Векшинского», ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», НИИЯФ МГУ, МАИ (НИУ) и др.
На пресс-конференции журналисты могли задать вопросы вице-президенту РАН, директору ИКИ РАН, академику Льву Зелёному, сотруднику ведомства Программы МКС Космического центра им. Линдона Джонсона (NASA, США) Джули Робинсон, председателю Координационного научно-технического совета Роскосмоса по научно-прикладным исследованиям на пилотируемых космических комплексах, первому заместителю генерального конструктора РКК «Энергия» им. С. П. Королёва Владимиру Соловьёву, сотруднику управления пилотируемых космических полетов Европейского космического агентства Рейнхольду Эвальду, директору ГНЦ РФ ИМБП РАН, академику Игорю Ушакову.
Начиная разговор, директор ИКИ академик Лев Зелёный подчеркнул:
— Очень важно, что на конференцию приехали представители разных космических агентств. Наверное, это первая встреча такого масштаба, на которой ученые из многих стран могут рассказать о своей работе. Меня, в частности, очень интересовали научные эксперименты по фундаментальной физике на американском сегменте. Кроме того, конференция даст толчок к развитию новых совместных экспериментов на МКС, потому что у нас есть конечный ресурс — это время космонавтов и финансовые средства. Сотрудничество позволит избежать дублирования и, объединившись, сделать какие-то более новые и перспективные эксперименты.
— Расскажите, пожалуйста, о программе экспедиции и двух выходах в открытый космос летом этого года. В чем уникальность этого годового полета? Говорят, что американец будет участвовать в восьми российских экспериментах, а российский космонавт — в трех американских. Но они и так на МКС работают вместе.
В. Соловьёв: Действительно, годовая экспедиция началась 27 марта, а посадка запланирована на 3 марта 2016 года. Это связано с баллистическими особенностями и с тем, что при более поздней посадке трудно обеспечить ее безопасность. За это время к МКС отправятся четыре пилотируемых «Союза», четыре грузовых корабля «Прогресс», т.е. остается вся техническая программа, которую мы обычно реализуем в течение года. Не стану останавливаться на конкретных датах, потому что иногда мы оперативно изменяем планы, в том числе дни посадки и даже, что очень редко, старта. Даты выходов и их количество — это тоже оперативная информация.
Помимо медицинских и биологических исследований, в программу входят технические эксперименты, дистанционное зондирование Земли и многие другие. Но ключевыми остаются именно медицинские исследования и новая их градация — совместные эксперименты, где используется новое оборудование, и российское, и NASA, и места проведения, в том числе в европейском модуле. А «пациентами» могут быть и американский астронавт Скотт Келли, и наш Михаил Корниенко, в некоторых случаях им помогает Геннадий Падалка. Эту довольно сложную программу мы очень долго увязывали, в том числе с юридической точки зрения. Ведь совместные эксперименты — это затраты и, естественно, разделение результатов, чтобы никому из партнеров не было обидно и не тратить лишних денег.
И. Ушаков: Годовой полет таит в себе какие-то неясности и новые риски, например связанные с ухудшением зрения, открытым нашими американскими коллегами. Это потребовало более тесной интеграции медико-биологической программы и ее согласования в различных организациях. Надеемся, что такие полеты продолжатся и усложнятся и мы перейдем на новый уровень взаимоотношений и организации научных исследований.
Прежде всего эта программа нацелена на длительные космические полеты и даже межпланетные. В нее входят совместные перекрестные эксперименты, например исследования зрительной системы, риска повышения внутричерепного давления и возможных зрительных нарушений, которые зависят от других сопутствующих факторов.
Другое направление — сенсомоторика (лат. sensus — чувство, ощущение и motor — двигатель)— область исследования взаимодействия сенсорных и моторных (двигательных) компонентов психической деятельности. Джон Чарльз в своем докладе сказал, что космонавт уже через 6 часов после прилета на Марс сможет выполнять простые операции. Но кто-то сможет это сделать не через 6 часов, а только через сутки. Все зависит от того, как человек выполнял программу профилактики в полете. Вот для этого проводится полевой тест. Такие же тесты по сенсомоторике будут проходить в полете. Обменявшись данными, мы сразу увеличиваем статистику в 2 раза.
Годовые экспедиции, в общем-то, дорогое удовольствие. Мы серьезно изменяем график полетов — кто-то из-за этого меньше летает. Поэтому партнерам надо объединяться. И этот полет как раз показывает, что это возможно. Третье, очень важное направление — это психофизиология, взаимодействие между членами экипажа, особенно если они представители разных стран, разных специальностей. Проект «Марс-500» дал много важнейшей информации. Но в реальном длительном полете все гораздо сложнее. Поэтому эксперименты по психофизиологии и открытость обмена данными станут прорывом в нашем взаимодействии.
— Валерий Поляков как врач мог оказать любую помощь во время полета прямо на борту, включая стоматологическую. Уделялось ли повышенное внимание медицине при подготовке этого годового полета в отсутствие врача на МКС?
И. Ушаков: Конечно, все космонавты проходят медико-биологическую подготовку и готовы к различным ситуациям, даже к оперативным вмешательствам, но, надеюсь, до этого дело не дойдет. На борту есть все необходимое, в том числе специальные укладки для лечения зубов, средства телемедицины, постоянные консультации лучших специалистов всех стран-участниц, которые помогут решить все проблемы, как и раньше. Если нужно, Геннадий Падалка сделает инъекцию лучше выпускника медицинского вуза, не говоря о каких-то простых медицинских процедурах. Другими словами, мы готовы к годовому полету. Конечно, в межпланетном полете все сложнее, но сейчас мы говорим о длительном полете на низкой околоземной орбите.
— Как вы думаете, нужно ли России дальше продолжать годовые полеты на МКС?
И. Ушаков: Позиция института и российских ученых очень проста: такие полеты нужны прежде всего, чтобы накапливать статистику. Четверо наших космонавтов участвовали в годовых полетах в 1980–1990-х годах прошлого века. Но тогда и медицина была другой, и методы не такие тонкие, и лекарства, какой-то аппаратуры вообще не было, по крайней мере на орбитальной станции. Нельзя же сказать, что мы изучили 1000 инфарктов и эту проблему закрыли. Инфарктами как занимались 100 лет, так и будут еще через 100 лет, только на другом уровне. Так же и со статистикой в космической медицине.
Во-вторых, годовой полет интересен с точки зрения моделирования межпланетного полета с небольшим интервалом и напланетной деятельностью. И такие предложения делались, их поддерживают и РКК «Энергия», и Центр подготовки космонавтов, есть отчеты, публикации. Один или два космонавта выходят на поверхность планеты, выполняют какие-то операции, конечно, при земной гравитации, но 1/3 или 1/6 g, как на Луне и Марсе, можно смоделировать. А потом, минуя реабилитационный период, через месяц-два отправляются в обратный путь с Марса или астероида. Это хорошая модель полета с переменной гравитацией — до нуля, потом с частичной гравитацией, затем опять до нуля и уже с земной гравитацией. Она очень близка к реальной, конечно, за исключением радиационной компоненты. Такие полеты «с разрывом» очень интересны. Мы обсудим их перспективы на ближайшей рабочей группе в Хьюстоне. Может быть, удастся организовать один или два таких годовых полета на МКС.
— Сколько NASA планирует годовых полетов на МКС? И готовы ли вы сопровождать такие полеты без российской стороны и с участием других партнеров?
Д. Робертсон: Мы тоже ориентируемся на статистику. В качестве примера можно привести проблемы, которые встречаются у американских астронавтов со зрением, но далеко не у всех. Нужно накопить довольно большой массив данных, прежде чем делать соответствующие медицинские выводы. Что касается конкретных экспериментов, то при изучении поведения жидкости невозможно работать без аппаратуры российского сегмента. Поэтому мы заинтересованы в таких экспериментах и в продолжении длительных полетов экипажей с участием представителей разных стран. Кроме того, очень сложно планировать программу полета и учитывать рабочее время всех членов экипажа. Поэтому нужно продолжать сотрудничество в этом сложнейшем аспекте, обсуждать все вопросы утилизации времени на МКС. Мы уверены, что это можно делать только вместе.
— Станции уже более 15 лет. Каковы перспективы ее дальнейшего использования?
В. Соловьёв: МКС — достаточно серьезный объект. И могу сказать как руководитель полетами, что она находится в весьма приличном состоянии. Особенное внимание мы уделяем корпусу, иллюминаторам, герметичности, техническим системам. Как известно, принято решение о продлении ее эксплуатации до 2024 года. Но я абсолютно уверен, что это еще не предел. Совместно с нашими американскими коллегами мы повышали интеллект станции, семь-восемь раз переписывали систему наших компьютеров и поэтому смотрим на будущее МКС с оптимизмом.
— ИМБП не собирается повторить проект «Марс-500» или подобный ему?
И. Ушаков: В своем докладе я сказал о необходимости дальнейших наземных экспериментов по моделированию различных полетных ситуаций. Они особенно нужны для межпланетных экспедиций, когда возрастает роль человека и человеческого фактора и, соответственно, цена ошибки. Только надо обеспечить их соответствующими методиками, средствами виртуальной реальности, дополнительными модулями, ввести дополнительные факторы для проигрывания тех или иных ситуаций.
Сейчас обсуждается идея годового российско-американского эксперимента по тем же методикам и с подключением других параллельных методов, но на Земле. Фактически это контрольный, или «отсидочный», эксперимент, подобный тому, который проводится на Земле, когда летают биоспутники. Такую же «отсидку» мог бы провести совместный экипаж на комплексе «Марс-500» в нашем НЭКе, тем более что он сейчас наращивается и присоединен к новому 9-этажному клинико-лабораторному корпусу. Там могут разместиться на время проведения работ или постоянно специалисты из других космических агентств, естественно, при заключении соответствующих договоров и разрешительных процедур. Это, действительно, очень интересное и перспективное направление.
— Не планирует ли Европейское космическое агентство годовой полет своего астронавта?
Р. Эвальд: Конечно, нашим астронавтам было бы интересно принять участие в таких полетах. Европейцы были партнерами в проекте «Марс-500». Сейчас наши астронавты выполняют более 20 экспериментов совместно с Роскосмосом, в основном медико-биологических и по материаловедению. Но у ESA только 8,5% всех ресурсов станции и времени экипажа. И если один наш астронавт будет летать целый год, значит, у ESA больше не останется полетов.
— Продолжится ли сотрудничество в космосе?
Д. Робинсон: МКС — это удивительный пример совместной работы в космосе разных стран. Ежедневно все члены экипажа МКС — представители Роскосмоса, ESA, NASA, канадского, японского и других космических агентств — строят дружеские отношения друг с другом и совместно обеспечивают безопасность и работоспособность всех важнейших систем станции. Что касается научной стороны программы, то и здесь все строится на личных дружеских отношениях между учеными. Они в ходе тех или иных совместных экспериментов укрепляют связи, которые помогают им обеспечить плодотворную работу. В программе научных исследований или экспериментов участвовали 83 страны, опубликовано более 1100 научных результатов. Мы настолько преданы своему делу, что не замечаем каких-то политических коллизий, которые происходят в мире. Наша цель — двигать науку вперед и укреплять совместные начинания.
Р. Эвальд: Политические проблемы приходят и уходят, а сотрудничество остается.
Л. Зелёный: Я хотел сказать то же самое. И вопрос был задан правильный, потому что об этом все думают. В математике есть понятие инварианта. Любая задача решается, если в ней находится инвариант. Такие инварианты, как наука, любовь к науке, научное сотрудничество, не должны меняться в зависимости от политических коллизий. Я пришел в ИКИ в 1975 году, в разгар холодной войны, когда Советский Союз называли империей зла. Но в это время готовился очень сложный и интересный проект — совместный полет «Союз — Аполлон», который способствовал наведению мостов и налаживанию сотрудничества между СССР и США.
— Летом прошлого года британская газета «Гардиан» написала, что Роскосмос планирует перенести тренировки по морскому выживанию космонавтов на черноморское побережье Крыма. Будут ли в таком случае астронавты NASA и ESA участвовать в таких тренировках?
Р. Эвальд: Я космонавт, а не политик. Я сам участвовал в тренировках на выживание в Феодосии и очень хорошо помню крымские тренировки как самые лучшие за время подготовки к полету. Нам нужно посмотреть, будут ли они играть важную роль для будущих экипажей.
Л. Зелёный: Разрешите мне ответить шуткой. Мне этот вопрос кажется странным. Чёрное море и Крым — это курортные места. Какое там выживание? Туда надо ездить в отпуск, а проводить тренировки на выживание надо в Белом или Карском морях. Вот это будет правильно. Надеюсь, Владимир Алексеевич на меня не обиделся.
— Какие еще важные эксперименты, кроме медико-биологических, будут проводиться на борту во время годового полета?
Д. Робинсон: МКС — это уникальная площадка для проведения интересных научных исследований, она для этого и создавалась. В эти дни, обсуждая программу годового полета, мы так много внимания уделяли медико-биологическим экспериментам, потому что думаем о здоровье экипажа. Несомненно, мы будем сотрудничать и в других областях. Например, в ближайшие полгода планируется реализовать следующий этап эксперимента «Оазис», который посвящен физике жидкости. Это тоже наш давний совместный проект. Кроме того, мы вместе проводим различные образовательные программы.
Р. Эвальд: Что касается ESA, то в наших научных программах принимают участие около 14 стран Европейского экономического союза. Поэтому наша научная программа тоже весьма разнообразна. Конечно, всегда соблазнительно проводить эксперименты, дающие практические результаты. Как всегда, наши исследователи проявляют большую любознательность и заинтересованность и в экспериментах в области фундаментальной науки, имеющих долгосрочную перспективу.
— Можете ли вы сравнить состав научной аппаратуры на российском сегменте и на станции «Мир»?
В. Соловьёв: Такое сравнение некорректно, хотя бы потому, что современная аппаратура существенно легче. Но в целом мы сейчас близки по оснащению РС МКС и «Мира» на завершающем этапе его эксплуатации.
— Лев Матвеевич, повлияет ли сокращение общего бюджета на Федеральную космическую программу и научные проекты?
Л. Зелёный: Честно говоря, я программу эту еще не видел, потому что ее еще не прислали в РАН. После утверждения Правительством РФ и прохождение через Министерство финансов России она немного «похудела». Надеюсь, что ключевые направления не пострадали. К сожалению, планов ученых всегда гораздо больше, чем можно реализовать с помощью наших «космических» фирм.
— Владимир Алексеевич, каковы перспективы использования МКС для запусков с нее малых космических аппаратов?
В. Соловьёв: Сейчас мы вместе с ИКИ работаем над проектом нового, более совершенного КА «Чибис». Есть целый набор так называемых кубсатов, которые наши коллеги уже запускают. Возможности, которые предоставляют свободно летающие КА, мы будем использовать максимально. Выведение на более высокие орбиты позволит увеличить длительность функционирования этих спутников.
Л. Зелёный: Пользуясь возможностью, я благодарю Владимира Алексеевича за интересную схему реализации таких экспериментов. Чтобы поднять «Прогресс» на высоту более 500 км и с нее выпустить КА «Чибис», пришлось выполнить сложный маневр. Это позволило спутнику проработать в космосе почти 3 года и получить очень интересные результаты. А если бы его запустили с орбиты станции, он просуществовал бы всего 2—3 месяца. Создан транспортно-пусковой контейнер, разработаны схемы подъема орбиты и последующего затопления «Прогресса». При современном уровне электроники 15–20 кг научной аппаратуры позволяют решить очень много задач. За этим направлением работ большое будущее. Мы очень рады, что открыли его своим «Чибисом».
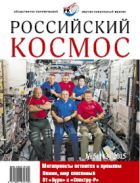
 Журнал № 1(109)'2015
Журнал № 1(109)'2015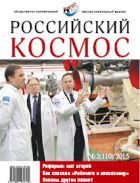 Журнал № 2(110)'2015
Журнал № 2(110)'2015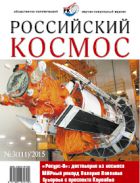 Журнал № 3(111)'2015
Журнал № 3(111)'2015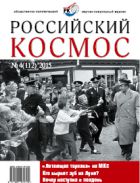 Журнал № 4(112)'2015
Журнал № 4(112)'2015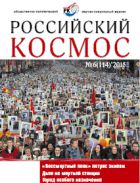 Журнал № 6(114)'2015
Журнал № 6(114)'2015 Журнал № 7(115)'2015
Журнал № 7(115)'2015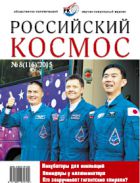 Журнал № 8(116)'2015
Журнал № 8(116)'2015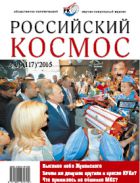 Журнал № 9(117)'2015
Журнал № 9(117)'2015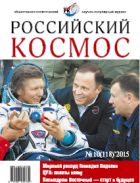 Журнал № 10(118)'2015
Журнал № 10(118)'2015 Журнал № 11(119)'2015
Журнал № 11(119)'2015 Журнал № 12(120)'2015
Журнал № 12(120)'2015