ПерспективаМегапроекты остаются в прошлом4
На орбитеПомни, мир спасенный12
ЮбилейИКИ РАН — полвека ...»16СотрудничествоВместе к Луне и Марсу22
ТехнологииСервис на орбите26
ПамятьУлица академика Легостаева ...»42ПредприятиеОт «Бури» к «Спектру-Р»46
ЗемлякиПозывной — «Тарханы»50
СимволыИстория одной эмблемы52
КинофестивальЧерез тернии к звездам57
Архив журнала
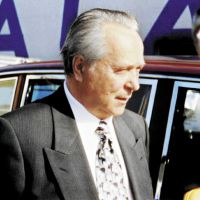
Улица академика Легостаева
Незадолго до Дня космонавтики одну из улиц в центральной части подмосковного Королёва назвали именем академика Легостаева. Получается, что Виктор Павлович живет теперь не только на страницах энциклопедий и учебников, но и в географии города, которому отдано так много…
Евгений Микрин
Евгений Микрин
Виктор Легостаев родился 6 июня 1931 года в Москве в семье дипломатов. После окончания с отличием в 1955 году факультета машиностроения МВТУ имени Н. Э. Баумана он был распределен в Научно-исследовательский институт № 1 Государственного комитета Совета Министров СССР по авиационной технике, которым руководил академик М. В. Келдыш. В период с 1955 по 1960 год, работая в НИИ-1 над проблемой устойчивости крылатых ракет с учетом упругости их конструкции, Виктор Легостаев начал заниматься теорией управления космическими аппаратами в группе Бориса Раушенбаха. Это и определило его судьбу.
…4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли. Но первый шаг в космос немедленно породил лавину вопросов. На один из главных — а как, собственно, управлять космическим аппаратом в космическом пространстве — ответа тогда еще не было. Найти этот ответ, по воле Сергея Павловича Королёва, предстояло коллективу молодых и талантливых инженеров — Виктору Легостаеву, Евгению Токарю, Евгению Башкину, Дмитрию Князеву, Анатолию Пациоре, Борису Скотникову, Александру Левакову и др. Всего тогда, в 1960 году, в ОКБ-1 к Королёву перешли 70 человек.
Поручение Сергея Королёва было таким: разработать все системы ориентации для космических аппаратов, которые создавались в его ОКБ-1. Здесь пригодились в полной мере конструкторский, инженерный таланты Виктора Легостаева. Позже коллеги признают: «Высокая теоретическая и техническая подготовка позволила Виктору Павловичу стать одним из ведущих специалистов по разработке новых принципов управления движением сложных систем». Здесь следует особо отметить то важное обстоятельство, что эти системы не имели никаких аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом. Так что их создание действительно стало сложной технической задачей.
— Особенно трудно было в начале, — скажет потом Легостаев. — Как расставить датчики? Сколько? Все в первый раз. Как повлияют блики от Солнца на датчики, которые смотрят на Луну? Как расставить двигатели ориентации, сколько, какое топливо? Как организовать логику работы системы? Как все это проверить на Земле? Но какая была решена задача!..
…Первый в мире управляемый космический аппарат «Луна-3» был выведен на орбиту в 1959 году. Состав его аппаратуры по сравнению с первым спутником был значительно усложнен и включал оптико-электронные датчики Солнца и Луны, датчики угловых скоростей, реактивные двигатели ориентации, работавшие на сжатом воздухе, и логический блок управления. Аппарат сфотографировал обратную сторону Луны и передал эту информацию по радиоканалу на Землю. Американцы кусали локти.
Сейчас кажутся невероятными темпы начала космической эры — в октябре 1957 года первый, совершенно простой, еще не управляемый спутник, а через 3 с половиной года — 12 апреля 1961 года — уже великий полет Юрия Гагарина. Корабль «Восток» был обеспечен уже ручной и автоматической системой управления, позволявшей осуществлять наблюдение космического пространства, маневры в космосе и возвращение космонавта на Землю.
Следующим шагом в развитии систем управления беспилотных аппаратов и пилотируемых кораблей стало создание аналоговых систем прямого управления с широтно-импульсной модуляцией. К системам этого типа относятся системы управления космических аппаратов «Зенит», «Зенит-2», «Марс», «Венера», «Прогресс», корабля «Союз» и станции «Салют». Включение реактивных двигателей ориентации осуществлялось в соответствии с аналоговым управляющим сигналом, являющимся комбинацией сигналов датчика углового отклонения и датчика угловой скорости. Кульминации своего развития подобные системы достигли при создании орбитальной станции «Салют» в составе орбитального комплекса «Союз» — «Салют» — «Прогресс».
Следующим важным периодом в развитии систем управления, приведшим к существенному расширению их возможностей при одновременном повышении качества работы этих систем, стало создание бесплатформенных инерциальных систем, основанных на использовании бортовой цифровой вычислительной машины. Впервые цифровая двухконтурная система управления на основе корректируемой БИНС была разработана для корабля «Союз-Т». Насколько надежной оказалась эта система, показывает успешная многолетняя эксплуатация многомодульных орбитальных станций «Мир» и МКС.
Еще одна важная задача, решенная Виктором Павловичем Легостаевым и его соратниками, — создание надежной развитой системы сближения и стыковки. Вспомните те славные годы! Уже в 1967 году впервые была осуществлена автоматическая стыковка в космосе. Представьте только: два беспилотных космических корабля «Союз» находят друг друга в космическом пространстве и объединяются в одно целое. И за этим — напряженная работа коллектива Легостаева.
Почему это было важно? Дело в том, что к этому времени и советские, и американские ученые понимали, что в космосе крайне важно иметь большие объекты — в 10, 20 тонн… На первый план выходила непростая задача: собрать космическую станцию непосредственно на орбите. Стоит заметить, что масса нынешней Международной космической станции перевалила аж за 400 тонн.
Какие здесь имеются тонкости? Ну, например, при разработке системы управления сближением многотонными объектами важнейшей задачей является минимизация расхода топлива всеми двигателями, участвующими в этом процессе. Реализация оптимальных алгоритмов сближения требовала мощных вычислительных средств, которые при создании первой системы управления сближением отсутствовали. В связи с этим для кораблей «Союз» был предложен и разработан метод, условно названный «методом пропорционального сближения». Эта система управления сближением успешно эксплуатировалась на кораблях «Союз» и «Прогресс» на протяжении 20 лет. С ее помощью было осуществлено 65 стыковок в космосе.
Предпосылками для создания новой системы стыковки послужили разработки бортовых цифровых машин и высокочувствительных датчиков угловой скорости. Впервые новая система сближения была использована на космическом корабле «Союз-Т». Принципиальное отличие системы управления сближением автоматического корабля «Союз-Т» от предшествующих систем — это переход от прямого управления движением по данным измерений к управлению на основе корректируемой модели движения корабля, реализованной в бортовом компьютере. Этап сближения при этом делится на две части. Вначале, когда расстояние между космическими аппаратами составляет сотни или даже тысячи километров, управление осуществляется методом свободных траекторий. На втором этапе управление производится по информации об относительном движении КА, получаемой с помощью бортовых измерительных средств.
В процессе дальнейших полетов к станциям «Мир» и МКС на основе полученного опыта и совершенствования приборов были реализованы дальнейшие модификации систем управления для кораблей «Союз» и «Прогресс», позволяющие повышать точностные характеристики и надежность операций.
За годы своей работы В. П. Легостаев стал крупнейшим специалистом в области управления движением и навигации космических аппаратов, кораблей и орбитальных станций, руководителем и создателем целого ряда национальных и международных проектов. Признанием научных заслуг Виктора Павловича стало избрание его членом-корреспондентом Российской академии наук (1997 год), действительным членом РАН (2003 год), действительным членом Международной академии астронавтики. Ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Президиум РАН присудил ему премии имени Б. Н. Петрова (1995 год) и К. Э. Циолковского (2014 год). В 2014 году В. П. Легостаев, выдающийся организатор, руководитель и ученый, был назначен генеральным конструктором РКК «Энергия».
Деятельность академика РАН Виктора Легостаева отмечена государственными наградами и самыми престижными премиями. Но, согласитесь, это самая скромная оценка его труда. Ведь все, чем занимался Виктор Павлович Легостаев, было впервые в мировой практике космического машиностроения, и участие в создании только одного из перечисленных проектов было бы достаточным научным и практическим вкладом для того, чтобы вписать свое имя в историю космонавтики.
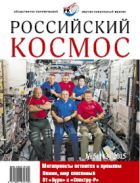
 Журнал № 1(109)'2015
Журнал № 1(109)'2015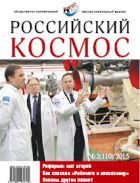 Журнал № 2(110)'2015
Журнал № 2(110)'2015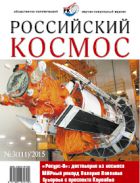 Журнал № 3(111)'2015
Журнал № 3(111)'2015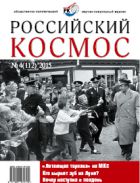 Журнал № 4(112)'2015
Журнал № 4(112)'2015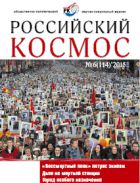 Журнал № 6(114)'2015
Журнал № 6(114)'2015 Журнал № 7(115)'2015
Журнал № 7(115)'2015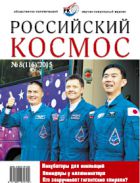 Журнал № 8(116)'2015
Журнал № 8(116)'2015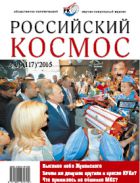 Журнал № 9(117)'2015
Журнал № 9(117)'2015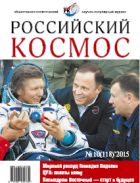 Журнал № 10(118)'2015
Журнал № 10(118)'2015 Журнал № 11(119)'2015
Журнал № 11(119)'2015 Журнал № 12(120)'2015
Журнал № 12(120)'2015